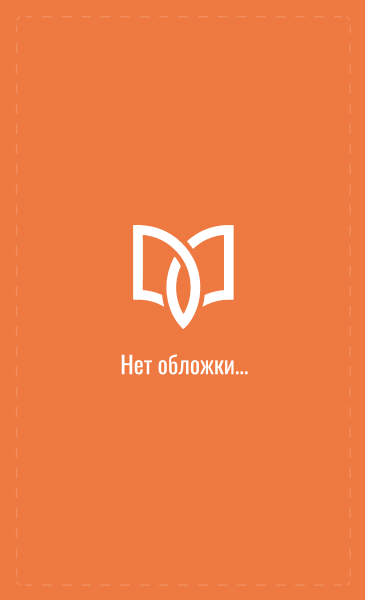
Метки
Описание
Та работа, с которой моя графомания и началась) Само собой, "Поня: Военное дело" планируется публиковать на Фикбуке в переписанном виде (так как в оригинале там так коряво, что читать невозможно), а потому печататься тут будет медленно и постепенно. Если кому невтерпеж (впрочем, а кому оно, вообще, надо-то? чай, фигня от графомана), то можно вбить в поисковик или посмотреть на "Табуне" - где-то там все (или почти все), что уже написано, есть.
Примечания
И, да, что сие фигня есьм такое: это псевдоисторическая графомания, первоначально рассматривавшая то, как у эквестрийских поняшек могло бы возникнуть и развиваться военное дело, потом активно ударившаяся (так как, автор еще тот) в альтернативную историю и сочинения за поней понячьего фольклора. Писанина не закончена (остановлена на начале 9-й главы, по табунской системе учета), и вряд ли будет когда-то закончена.
Посвящение
Мои благодарности брони MLPMihail, Dilandu, afraniy, Noncraft, Aluxor, Gedzerath, Rj-PhoeniX, DarkKnight, Rinar, SMT5015, LozoHoD, graf_leon, BusyaCipher, VIJNYL124 (вот перед ней я изрядно провинился...), Captain, MadHotaru, Limrei, Irbis, Tomty, S_Ayaal, GreenWater, Rishka, Krynnit, RaitaFoxy13, Nowhere, GL_DOS (да, тебе тоже спасибо) и другим, которых я, наверняка, забыл упомянуть и тех, у кого я без спросу попячил картинки на кривую переделку.
Глава 4 Эпоха цивилизации, ранние этапы: Пони торгового пути “из земнопони в единороги”
17 апреля 2023, 10:50
Пони торгового пути “из земнопони в единороги” в этот временной период
https://i.imgur.com/Eh2VD.jpeg
В то время, когда на равнинах бескрылых пони свои первые, робкие шаги делала цивилизация, занимая в умах разноцветных лошадок те позиции, которые неохотно, с боями сдавало варварское сознание, на вечнонеспокойном торговом пути “из земнопони в единороги” жизнь тоже не останавливалась.
Первейшим и самым заметным изменением стало то, что лесные поньки-собирательницы окончательно перешли от дикости к варварству, познав радости родоплеменных отношений. И, да, в этом самым непосредственным образом были замешаны “беззаконные хвосты”. Причем, настолько удачно замешаны, что весь торговый путь теперь был пестр от множества микроскопических родовых и, даже кое-где, племенных государств.
Немногим сложнее было не заметить на торговом пути резко возросший грузопоток — все растущие и изменяющиеся общества бескрылых равнинниц с жадностью поглощали товары друг друга, не забывая и о тех ресурсах, что давал Вечносвободный лес.
Проще сказать, что лесовушки и равнинницы процветали. А это не могло не раззадоривать прочно обосновавшуюся тут неспокойную братию “беззаконных хвостов” и “табунных топоров”, которые с утроенным энтузиазмом принялись продвигать прогресс в нужном им направлении даже там, где их никто не просил. Но обо всем по порядку.
Сначала поговорим о лесных поняшках-варварках: почему они оставили дикость? каковы были? где жили?
I) Первые случаи перехода от дикарских табунных союзов к роду отмечались на самом западе единорожьего отрезка торгового пути. Часть племенных союзов единорожек-добытчиц, не пожелавшие ради сохранения независимости разбавлять свою кровь с безрогими пришельцами, пошли очень своеобразным путем для повышения боеспособности своих ополчений: они начали расширять полномочия вождей союзов и продлевать срок их полномочий. В итоге, в копытах вождя оказывалась огромная власть над поньками союза, а ее полномочия продолжались вплоть до ее кончины. Пользуясь своими новыми широчайшими полномочиями глава союза пыталась сплотить табуны посредством кровосмешения и названного родства для того, чтобы уменьшить их сопротивление общим делам. Одновременно, ради облегчения выполнения возложенных на нее задач и согласно праву родства, вождь пыталась усилить позиции своего табуна в новообразованном племени. В итоге, помимо значительного повышения эффективности использования ополчения, происходил еще ряд интересных изменений. Во-первых, табунный союз de facto прекращал свое существование, уступая место вновь сформированному роду/племени/племенному государству. Во-вторых, табун, из которого происходило большинство вождей бывшего союза, приобретал особый статус, который делал его практически единственным источником родовой управленческой элиты. Возникало явление королевской семьи. В-третьих, должность главы лесовушек становилась наследственной, а правительница сформировавшегося варварского государства выбиралась из вполне конкретного табуна с особым статусом (королевской семьи). Причем, выбиралась только членами этого самого табуна, а легитимизация власти правительницы происходила именно по ее крови. То есть, формировалось варварское королевство с наследственным типом передачи монаршей власти. Что было внове в обществе пони, как и привнесенная им сословность: граничницей, “чистокровой” пони или членом королевской семьи можно было только родиться – любые переходы между этими частями общества рогатых лесовушек были в принципе невозможны.
II) С некоторым отставанием шел процесс становления рода и, кхм, с другой стороны баррикад. “Табунные топоры” никогда не довольствовались тем, что уже имеют, и постоянно стремились расширить свои владения, тем или иным способом присоединяя новые табуны понек или основывая с ноля новые. Присоединенные табунные поселения, в виду своей удаленности и небезопасности Вечносвободного леса, уже не могли контролироваться главой присоединившей их гоп-компании непосредственно. Что заставляло вождей ‘табунных топоров” оставлять в свежеприобретенных табунах вместо себя своих представителей. По счастью, уже существовало родство жеребцов по отцу, что делало близких родственников (обычно, сыновей и братьев) вождя весьма лояльными кандидатурами на роль наместника в новом табуне. Но это же родство по отцу делало всех сыновей наместника родственниками и вождю первоначальной банды “табунных топоров”. Что имело довольно интересные последствия. Во-первых, потомство наместника было весьма лояльно не только вождю “табунных топоров”, но и его детям. Обратное утверждение было столь же верно: двоюродные- и троюродные братья, дядья и племянники лесовиков тех времен поддерживали настолько тесные отношение, насколько позволял Вечносвободный лес. И, не в последнюю очередь, это происходило именно благодаря самому лесу: жить в этих местах гораздо лучше было вместе, чем порознь. Во-вторых, потомки наместника могли претендовать на место нового вождя. Что значительно расширяло выборку кандидатов, а, значит, повышало шансы сборища “табунных топоров” и дальше продолжать свое существование. В-третьих, жеребцы, связанные общими предками, осознавали себя как некую общность с единимы интересами и судьбой. В итоге, формировался очень интересный тип рода, где его членами были только законнорожденные жеребцы и формально признанные жеребцами кобылицы, а табунные же кобылки существовали совершенно параллельно родовым отношениям, все еще оставаясь дикарками и особенно себя со всеми этими варварскими образованиями не связывая. Что было крайне удобно для их кавалеров: в их дела слабый пол не вмешивался, так как ему было абсолютно все равно, какой жеребцовый род/племя контролирует их поселение.
Способ управления делами такого рода тоже был весьма интересен.
Во главе рода стоял верховный вождь, чье место наследовалось по принципу родства. Правда, власти у верховного вождя было немного. Основные полномочия по управлению делами рода были сосредоточенны в копытах собрания вождей отдельных дружин “табунных топоров” – потомков тех самых наместников, но обязательно избиравшихся самими “табунные топоры”. То есть, одной только крови для претензий на власть было недостаточно: кандидат в вожди должен был обладать и определенными умениями, дабы завоевать уважение у товарищей по оружию. Что было неплохой страховкой от дураков, но с благородными кровями в жилах. И, да, в это время даже кровь была не столь важна, как тот самый авторитет среди бойцов: варвары признавали названное родство наравне с кровным, а пол толковой кобыле запросто меняли на общем собрании на жеребцовый. Что, кстати, ни коим образом потом не мешало такому “жеребцу” жеребиться от понравившегося поня и основывать собственные династии “от жеребцовой петли”. В общем, здравый смысл в те времена был куда важнее права крови, а социальные лифты работали преотлично. Что, вместе с изрядной демократичностью управления, и обеспечивало”табунным топорам” процветание. Кстати, о воинской демократии: любые решения верховного или дружинного вождя могло быть оспорено воинским сходом соответствующего уровня, на котором “табунные топоры” решали те свои вопросы, решение которых не могли доверить вождям. А вот у табунных кобылок никакой доли в управлении варварским государством не было. Причем, на тех кобылиц (а их было изрядно), что влились в банды “табунных топоров” и потому активнейше принимали участие в управлении их государством, ссылаться не стоит — они уже не были частью табуна, а потому защищали не табунные интересы, а интересы своих братьев по оружию. Так что, популярную среди самих эквестрийцев позицию о том, что среди оварварившихся “табунных топоров” половая детерминация в управлении обществом сменила свой вектор на противоположный по отношению к естественному для поней, можно считать ложной. Варваров не интересовал пол пони. Просто, варвары и дикари в это время существовали хоть и бок о бок, но совершенно параллельно друг другу: “табунные топоры” не лезли в дела табунов, табунницы не лезли в дела варварских родов. И, да, сами лесовики и лесовушке описанной картине очень бы удивились. Ведь, сами они считали, что живут в точности так же, как и их предки: есть табуны и есть жеребцы — что не так-то?
https://i.imgur.com/PGSY2.jpeg
III) Появление родов “табунных топоров” сильно усложнило жизнь непокорным единорожкам и начавшим чувствовать припекание на крупе земнопонькам-собирательницам на конечных отрезках торгового пути. И если варварские королевства единорогов могли противопоставить усилившимся земнопони-конкистадорам свои родовое ополчение и непробиваемую ксенофобию, то вот у тех понек, что предпочли поступиться чистотой крови ради независимости, и у безрожек, дела резко приобрели угрожающий характер. Табунное воинство практически мгновенно растаптывалось родовым войском лесных жеребцов, подавлявшим его численно. И это только в том легком случае, когда “табунные топоры” решали воевать. А они, ведь, могли поступить и иначе: начать совместную торговлю, установить факторию, заняться обеспечением понячьей безопасности, дать взаймы, в конце концов. И вот тут лесные поняшки оказывались абсолютно беззащитны: щита в виде ксенофобии у них не было — всех четвероногих они априори считали понями (да, возможно, погаными и неприятными, но понями). То есть, противостоять ползучему и абсолютно мирному поглощению лесовушкам было решительно нечем. И это сподвигло понек на поиски новых решений в деле обеспечения своей безопасности. В этом поиске они пошли по проторенному пути: не имея возможности нормально договориться между собой, табуны дикарок звали на помощь уважаемых “вольных хвостов”, которым и передавали часть власти над союзом. Таких приглашенных правителей в современной эквестрийской историографии принято обозначать как конунгов, дабы отделить от вождей “табунных топоров”. Но главы “вольных хвостов” отнюдь не были дураками, и связываться просто так со взбалмошными кобылками-дикарками не желали. В обмен на принятие власти они требовали не только повышения платы, но и права отбирать в свои ватаги “вольных хвостов” то потомство кобылок, которому этот конунг приходился отцом. В большинстве своем дикарки были согласны с такими условиями, так как альтернативой была разобщенность и постепенное покорение их “табунными топорами” (скорее, через мирное поглощение) или иными искателями легкой наживы (скорее, через завоевание).
В задачи конунга входили исполнение обязанностей третейского судьи между союзными табунами, наблюдателя за их торговыми делами, исполнения функций главы полицейской службы и комплектация и использование военных сил союза согласно поставленным перед ним советом вожачек задачам, для чего коннунгу вручалась военная казна союза и давались полномочия на ее пополнение путем взымания “копейных/топорных сборов” и “лодочного оброка” (платившегося плав.средствами) с табунов союза, пополнение армии путем найма новых “вольных” и “беззаконных хвостов” и истребования с табунов понек-ополченок в рамках “щитовой/топорной повинности”, а также, при необходимости, полной мобилизации ополчения тех или иных табунов союза. При этом конунг оставался наемным работником, подконтрольным совету вожачек.
Правда, такое положение вещей продлилось не очень долго. Дело в том, что отбирая свое потомство в дружину, конунги-жеребцы руководствовались, в первую очередь, личными качествами своих сыновей и дочерей, а не их полом. При том, конунги еще и периодически менялись. А потому, в ватаги “вольных хвостов” широкой рекой полились способные к ратному делу и не лишенные головы кобылки (и один жеребец мог наделать, хе-хе, немало жеребят табунницам, а ведь конунги еще и периодически менялись...). Но эти кобылки были не просто очень хорошими представительницами понячьего племени и членами воинского братства “вольных хвостов”, но сохраняли все свои права и родственные связи с материнскими табунами: так как они уходили в дружину не по своей воле, то табунчанки от них не отказывались, как это было с жеребцами и теми кобылками-сорвиголовами, которые бежали в банды поней-авантюристов сами. Получалась очень необычная ситуация, когда воительницы “вольных хвостов” оказывались привязаны к нанявшим их табунам. А периодический переход между различными ватагами дружинников еще и перетасовывал их между собой, сближая неродственных друг другу по отцу/табуну, но, одновременно, родственных по табуну/отцу кобылок и делая их общественные интересы совпадающими. При том, они часто становились главами дружин и даже конунгами (“вольные хвосты” ценили умения и личные качества пони, а не его/ее пол и происхождение). В результате всего этого табунчанки оказывались крайне заинтересованы в передаче властных полномочий внутри союза именно таким, одновременно и преданным им, и имеющих огромное влияние на “вольных хвостов”, понькам. Но получившие власть кобылки-дружинницы теперь были связанны узами воинского братства между собой и воспринимали себя как нечто целое, каковое восприятие стремились навязать и своим табунным родственницам, всячески ратуя за укрепление связей внутри союза и постепенное переформирование его в род. Одновременно оставалось и старое право конунга на принудительное привлечение своего потомства к воинской службе, каковое со временем распространилось на жеребят всех кобылок-воительниц (мать сама выбирала, кого из своих детей принять в дружину, а кого оставить в табуне). В итоге, военная и гражданская власти в новообразованном роде сливались воедино, будучи представленными конунгом и советом вождей табунных дружин, управлявших делами новообразованного рода, а также вождями табунных дружин и их советами, занимавшихся делами своих табунов. Причем, способ утверждения глав дружин несколько изменился: по-прежнему это были наиболее уважаемые среди дружинников и харизматичные бойцы, но теперь выбирала их не вся дружина, а только те кобылки и жеребцы, которые имели на то право согласно своему происхождению. Причем, выбирали они тоже только из тех дружинниц и дружинников, которые имели на то право по крови. То есть, с одной стороны, система очень напоминалу ту, что была у “табунных топоров”, но… Теперь пришлые жеребцы более не могли занимать командные должности выше помощника вождя табунной дружины, так как не имели родственных прав на гражданскую власть, которая оказывалась неотделима от военной. А полномочия командующих значительно расширились, так как теперь они не тоолько управляли войском, но и ведали гражданской жизнью табунниц. Проще говоря, в отличие от тех же “табунных топоров”, в коннунгатах не было никаких параллельных обществ варваров и дикарок — типичный коннунгат был целиком варварским и изрядно милитаризированным, а его пони были поделены на воительниц и тех, кто права голоса не имел ни в каких, ни в родовых, ни в табунных, делах. В общем, “Зведный десант” Роберта Хайнлайна, но в еще более жестком исполнении: потенциальные “граждане” не выбирали служить им или не служить — им это РАЗРЕШАЛИ, ну, или не разрешали. Ибо, много воительниц коннунгатам не было нужно, а вот работы у лесовушек хватало всегда.
Что гораздо более важно, подобные перестройки общества позволили лесовушкам эффективно противостоять поползновениям “табунных топоров” ассимилировать их табуны, при этом не теряя своей открытости прочим пони и не погружаясь в махровую ксенофобию, чем страдали единорожки лесных королевств. Теперь пони коннунгатов были объединены родством. Да, зачастую родством сомнительным или откровенно выдуманным, но позволяющим им осознавать свое единство и вполне материально проявлявшимся в виде права участвовать в управлении общими делами и тем делать свою жизнь лучше.
Что касается влияния непосредственно на военное дело, то в результате таких преобразований также произошла определенная кобылофикация как командного, так и рядового состава табунных дружин новообразованных родов. Это было обусловлено тем, что жеребчиков рождается у пони гораздо меньше, чем кобылок, а потому и имеющих кровное право на призыв в дружину и власть в ней жеребцов было гораздо меньше, чем их сестер-кобылок. Впрочем, “вольных хвостов” такое положение дел не отпугивало, даже наоборот — они с удовольствием нанимались в такие странные дружины, так как не придавали большого значения происхождению командира, а вот повышенное содержание в коннунгатских дружинах сильных и решительных представительниц противоположного пола, разительно отличавшихся от пугливых табунчанок, лихих жеребцов весьма привлекало. Хотя, стоит отметить то, что дружинные вожди коннунгатов именно по этой причине активно тасовали родственных кобылиц и жеребцов между дружинами, стараясь отдалить братьев и сестер и тем предотвратить имбридинг — жеребцы и воительницы отнюдь не были дураками, чтобы так вредить собственному роду, но, в отличии от табунных кобылиц, часто плохо знали собственную гениалогию, да и не слишком-то ею интересовались, считая, что это дело более мирных родственниц. На это еще накладывалась крайне запутанная система лесного родства, которая до сих пор периодически выдает такие “чудеса”, что поням только за голову хвататься и остается. Так что, командиры предпочитали не рисковать. Тем более, что имелся еще и понячий фактор: чем больше дурость — тем больше вероятность, что понька ее совершит, и чем строже некоторым пони запрещай — тем больше у них будет зудеть под хвостом запрет нарушить. Спокойнее было положиться на географические ограничения.
Итак, на пути “из земнопони в единороги” сформировалось три типа государств: родовые королевства в самом преддверии к равнинам единорогов, государства “табунных топоров” на большей части торгового пути и конунгаты единорожек и земнопонек, независимо сформировавшиеся на терминальных отрезках торгового пути, между “табунными топорами” и родовыми королевствами/равнинами земнопони. Государства эти были весьма невелики и крайне многочисленны. Но, при этом, часто пространственно разорваны (значительная часть формальной территории типичного лесного государства вообще не была никем заселена), а сообщение между разными частями страны дополнительно затрудненно трудностями Вечносвободного леса. Это заставляло понек не полагаться полностью на свои силы, но развивать отношения между различными государствами, формируя военно-экономические союзы, а так же блокироваться с государствами равнинниц и крупными шайками авантюристов.
https://i.imgur.com/DIv3H.jpeg
Стоит упомянуть некоторые интересные социальные преобразования в государствах "табунных топоров".
Произошедшее формирование родов “табунных топоров” очень сильно изменило внутреннюю структуру их общества. Причем, произошло не только углубление различий между “табунными топорами” и пришлыми дружинниками, но гораздо более важные преобразования произошли внутри самих табунов новообразованных государств. Дело в том, что объединившиеся в род “табунные топоры” стали потихоньку отбирать права на землю у все еще разобщенных кобылок, что в итоге вылилось в то, что правами на табунные земли стали обладать только законнорожденные жеребята. То есть, жеребята самих “табунных топоров”. И, да, их было в табунах не большинство. Так как, хотя один жеребец может сделать пузики очень многим поняшкам, но, во-первых, теперь “табунные топоры” делать этого не хотели: согласные кобылки у “табунного топора” были всегда в пределах досягаемости, так что чпокаться “впрок” ему было не нужно, и он осознавал себя хозяином жизни, а не пришлым прощелыгой — “табунный топор” ХОТЕЛ воспитывать своих жеребят. И делать он это желал хорошо, видя, как его жеребята достигают успеха в не самой легкой лесной жизни. Многих же поняшь с таким грифоньим подходом не вырастишь. Во-вторых, в идиоты “табунных топоров” записываться тоже не собирались: они прекрасно знали то, что такое вырождение пони при обеднении генофонда, и подобной участи своим кобылкам и своему потомству не желали. В общем, жеребят от сторонних поней в табунах “табунных топоров” всегда было полнехонько.
И вот тут стоит вспомнить практику “отработки ущерба”, прижившуюся среди “табунных топоров”. Кстати, другие пони торгового пути к этому времени тоже познакомились с ней, но еще не дошли в ее развитии до того же уровня. В свое время проблема нехватки “отработчиц” была решена добровольно-принудительным их поселением на землях табунов по окончании “отработки ущерба”, когда бывшие “отработчицы” превращались в “подбочниц/подстенниц”. Но! права на эту землю у “подбочниц” не было, как и права ее покинуть. Почему они становились полностью зависимы от табуна пленителей: “подбочницы” должны были оплачивать своим трудом право проживания и обработки табунной земли, а также право на любое ее другое использование. Нечто подобное стало происходить и с незаконнорожденными табунчанками: утеряв права на собственные земли, они оказывались обязаны выполнять приказы и прихоти законнорожденных родственниц и их отцов-“табунных топоров”, ибо иначе наносили ущерб интересам рода через халявное использование его собственности. Что грозило уже им самим превращением в “отработчиц”, а потом и в “подстенниц”. То есть, часть поняшек-табунчанок становилась, если говорить в земных терминах, поземельно зависимыми. Впрочем, лично они были свободны, и, по-прежнему, обладали правами на жеребцов и собственное потомство (как бы “табунным топорам” ни хотелось их этих прав лишить). Что же касается “подбочниц”, то, по факту, они становились лично зависимыми, так как усилившиеся благодаря развитию родовых отношений “табунные топоры” и, как следствие, их законнорожденное потомство отбирали у них право распоряжаться собственным трудом, а свободы передвижения у “подстенниц” не было изначально. Фактически, формировалось крепостное право табуна на живущих на его землях “подстенниц”. Более того, формировались интереснейшие формы зависимости внутри рода: формально будучи абсолютно независим, ординарный табун оказывался полностью зависим от тех “табунных топоров”, под чьим крылом он находился. Так как, большая часть табуна состояла из незаконнорожденных, у которых не было никаких прав на землю и которых “табунные топоры”, “восстанавливая справедливость”, могли в любой момент переселить в другое место, где бы “их пахота была бы по справедливости и по обычаю”. И что тогда делать оставшемуся законнорожденному ментшинству? Оно бы, попросту, не справилось с ведением хозяйства на прежнем уровне — табун бы обнищал. Так что, не только родственные связи обеспечивали лояльность табунов “табунным топорам”.
Но и сами табунные топоры также не избежали перестройки внутренних взаимоотношений.
Дело в том, что жеребец мог стать “табунным топором” лишь тремя способами: 1) родиться им, 2) получить право влиться в род в результате присоединения (поглощения, завоевания, основания – не важно) табуна, когда часть наиболее лояльных и показавших себя дружинников и “беззаконных хвостов” удостаивались чести стать названными родственниками только что назначенного наместника и оставленных с ним его кровных родственников, 3) стать названным родственником “табунного топора” в результате какого-то экстраординарного события, которое иначе, как подвиг, назвать было бы сложно. Получается, что круг “табунных топоров” был не слишком широк, и все они приходились друг другу родственниками. Более того, часть табунных кобылок (законно- и незаконнорожденных) и “подстенниц” тоже была родственницами тому или иному “табунному топору”, что при “природосообразном” отношении жеребцов к продолжению рода грозило вырождением. Решением этой проблемы стало то, что вожди дружин стали отслеживать родственные связи своих бойцов и указывать им на тех кобылок, с коими их соединение было нежелательно или, наоборот, приветствовалось. С учетом нерегулярной сменяемости вождей и изначально запутанной двойной системы родства лесовиков, это породило изрядный бардак в родственных связях лесных варваров. Каковой уже сам создал огромную проблему для пони торгового пути. И, нет, это не излюбленная современными эквестрийскими писателями тема внезапно вскрывшегося неосознанного инцеста. Все куда приземленнее и хуже: кто и как наследует звание “табунного топора” и связанные с ним положение и имущество? С этого времени проблема самозванцев и подложных родственных связей неотвратимо преследовала лесовиков на протяжении многих веков. И она же породила идею “особенной пони”. Правда, отнюдь не в современном ее виде. “Особенная пони” у лесных варваров это кобылка, поклявшаяся не заводить жеребят ни от кого, кроме того жеребца, которому она принесла клятву, взамен требуя от него признавать законными только ее жеребят. Обычай “особенных пони” был крайне распространенн на пути “из земнопони в единороги” и горячо поддерживался “табунными топорами”. Так как, давал жеребцу хоть какие-то гарантии, что жеребенок, точно, его, и позволял хоть как-то бороться с самозванцами.
Но перейдем от социальных преобразований к основной теме: к военному делу. В общем-то, формы ведения войн с прошедших времен не поменялись. Это были 1) разбой на реках и посуху, 2) грабительские набеги на поселения и лагеря добытчиц внутри пути “из земнопони в единороги” и 3) за его пределами, 4) попытки захвата выгодных с точки зрения торговли земель. Вроде бы, ничего нового. НО! Кто участвовал в этих войнах? Каков был состав армий? Откуда брались комбатанты? Как они вели бой? И вот тут-то и начинают выступать черты нового, варварского, подхода к ведению военных действий.
Варварские королевства
https://i.imgur.com/XHBS2.jpeg
Находящиеся наиболее близко к единорожьим равнинам (почему им и удалось выстоять перед культурным влиянием земнопони) варварские королевства единорожек-ксенофобок делали ставку на всеродовое ополчение, бывшее ядром их вооруженных сил. Другими их силами были наемники-“бродячие топоры” (ксенофобия ксенофобией, а прагматизм прагматизмом), ополчение “граничниц” и силы, предоставляемые им равнинными союзницами (по факту, теми пони, что позже создадут Эр – лесовушки кооперировались с эрчанками задолго до того, как возникли Республика и Рит Поингири).
Набор во всеродовое ополчение мало отличался от такового, бывшего когда-то на равнинах. Потому, подробно разбирать его не будем, а вспомним о некоторых необычных моментах, когда дело дойдет до описания вооружения и тактики ополченок. Хотя, об одном моменте упомянуть надо обязательно: передача большинства управленческих функций одному единственному табуну (королевской семье) позволило сформировать слой профессиональных управленцев и командиров, что способствовало становлению тактики боя как науки, а достаточно тесный контакт варварок с равнинницами форсировал ее развитие. К тому же, это способствовало единоначалию: пони из королевской семьи не были склонны открыто цапаться между собой, как это было принято там, где отряды ополченок возглавляли поняшки из тех же семей, что послали воительниц.
Что касается “бродячих топоров”, то эти банды наемничающих земнопони и единорогов слонялись по всему пути “из земнопони в единороги” предлагая свои услуги всем встречным. Так что, их наличие в воинствах королевств единорожек не было чем-то странным: их взаимоотношения были строго деловыми, а потому рогатые ксенофобки не имели ничего против наемных войск.
Более интересна была ситуация с союзницами-равнинницами и ополчениями “граничниц”.
Начнем с “граничниц”. Королевства варварок периодически предпринимали завоевательные походы против других пони. В том числе, и против слишком близко расположенных к границам поселений государств “табунных топоров”. Иногда им удавалось выбить “табунных топоров” и “освободить” табун рогатых понек, уменьшив таким образом угрозу вторжения банд грабителей. Но что делать с освобожденными единорожками? С одной стороны, оставить их так нельзя — явятся “табунные топоры”, и повторно присоединят поселение, просто предложив брошенному всеми табуну свою помощь — все начнется по новой. С другой стороны, войско держать тут тоже нельзя — ополченкам надо работать дома, да и кобылки эти не из их рода, а, вообще, не-пойми-кто да еще с “грязной” кровью. Эта дилемма разрешалась наделением завоеванной семьи особым статусом так называемого “граничного табуна”: отныне пони этого табуна считались названными (но очень третьесортными) родственницами своих освободительниц, в обмен на что они обязаны были нести военную службу, превратив земли своей семьи в крепость, перекрывающую поням-конкистадорам подступы к владениям их новых родственниц. Само собой, такой табун уже не мог полноценно содержать сам себя, а потому обеспечение его жизни во многом брали на себя остальные поньки рода. Зато, в обмен они получали мощный заслон на пути разнообразных бандитов и завоевателей, могущий продержаться достаточно долго до подхода всеродового ополчения и создающий неприемлимо высокий уровень угрозы тылам всех, кто предпочтет с ним не связываться, а просто “проскочит” во владения единорожек. С другой стороны, названное родство “граничниц” было очень особым: они не могли претендовать на равенство с чистокровыми единорожками, их сыновья не могли заходить на земли прочих “родственных” семей, кроме других “граничниц”, а жизненная стезя “грязнокровок” определялась с рождения — воительницы-“граничницы”, и законными путями изменена быть не могла. То есть, от такого неравновесного союза сами чистокровые единорожки королевств ничего не теряли.
В целом, армия “граничниц” формировалась как ополчение и структурно практически не отличалась от ополчения остальных табунов рода. Но, так как “граничницы” были обязаны регулярно нести службу вне зависимости от того, ведет род войны или нет, то они были воительницами полупрофессиональными, что делало их куда опаснее других ополченок, а также повлияло на их арсенал.
Что касается равнинных пони, то они довольно быстро смекнули, что лучший способ борьбы с лесными налетчиками, начавшими беспокоить равнины рогатых, это наносить им удары прямо на пути “из земнопони в единороги”. Для реализации этой стратегии государства равнинниц заключали военные союзы с дружественными им лесными протокоролевствами, в рамках которых и направляли войска в их земли. Размеры направляемых армий разнились от экономических возможностей равнинниц и поставленных перед войсками задач. Тактической единицей таких экспедиционных сил была “навикула” — унгулис стражниц с приданными им аукзилами (“навикула унгула”) или подразделением дорожной стражи (“навикула цивика”) снабженные лодьей. Формально такие подразделения имели статус союзных и должны были бы подчиняться варварскому командованию, но, на самом деле, стражницы часто действовали самостоятельно в отрыве от основных сил, лишь в общих чертах придерживаясь приказов (скорее, рекомендаций), отданных им варварками. Кстати, именно в связи с жалобами варварок на самоволие равнинных магесс в документах впервые упоминается “старая семья” Аркана, тогда еще не бывшая ни “старой”, ни эрской: в переписке между чародейками Спаркл и королевской семьей Сильвана последние жаловались равнинницам на то, что протеже Спарклов волшебницы Аркана и их предводительница Лантерн Аркана игнорируют приставленную к ним пони королевских кровей и делают то, что сами считают нужным, а не то, что советует им их лесная союзница. На что матрона семьи Спаркл советовала королеве Сильване Геранае поумерить свою спесь и напоминала, что равнинные волшебницы помогают лесовушкам лишь по собственному желанию, не получая никакой платы взамен. То есть, уже тогда взаимоотношения между лесными королевствами и равнинницами не строились на базе равенства. Что, по всей видимости, повлияло на распространение лесной ксенофобии в последующие века и на равнинных сородичей.
https://i.imgur.com/d4pnF.jpeg
Теперь пора перейти к собственно ополчению варварских королевств.
Как уже было сказано, способы их формирования были аналогичны таковым, практиковавшимся ранее на равнинах. Но было некоторое отличие в функциях и вооружении ополченок, продиктованное особенностями поля боя и наиболее опасными противниками на нем — ватагами профессиональных воинов.
Стесненные условия Вечносвободного леса и частая необходимость ведения боя на воде предъявляли повышенные требования к застрельщицам. Если на равнинах во времена варварства застрельщицами становились лучшие поньки табунов, то в волшебном лесу ими были лучшие из лучших. Дело в том, что застрельщицам часто приходилось не только выполнять свои непосредственные функции, ослабляя противника градом дротиков, но и вступать с ним в копытопашную, а также вести разведку и патрулирование в отрыве от основных сил. В связи с этим, отбор в застрельщицы, хм, велся задолго до начала войны: ими становились поньки имеющие не только способности, но и тренированные к этому длительным нахождением по хозяйственным нуждам вдали от лагерей и поселений — собирательницы, лесорубы, охотницы (да, жадность гнала пони и на охоту, хотя получалось у них не ахти, но кожи стоили на равнинах так дорого…). Что касается вооружения и оснащения, то оно было практически идентично таковому на равнинах: короткое копье, малый круглый щит и набор “волчьих дротиков”. Впрочем, была и особенность: лесовушки любили носить с собой “волчий зуб” — нож с зауженным к острию клинком и вставленным в держало зачарованным камнем для более надежного заякоревания телекинезом (а при необходимости нож за небольшое держало можно было взять в рот). Этим ножом можно было защитить себя тогда, когда поньку опрокинул монстр волшебного леса или противник-пони и копьем уже не воспользоваться — узкое отточенное острие с легкостью проходило как через шкуру волка, так и через понячий доспех, давая поньке шанс (сверхъестественно живучего поня вред ли удасться смертельно ранить, но вот вывести из строя… с большой вероятностью). А вне боя “волчий зуб” верой и правдой служил поняшкам как обычный хозяйственный нож.
Стоит отметить, что подразделения застрельщиц были не столько военной силой, сколько средством разведки и дозора за границами, почему их и приходилось поддерживать в действии постоянно. Это осуществлялось ротацией ополченок, когда подходящих понек периодически призывали в отряды застрельщиц даже в мирное время (это, опять же, ограничивало их численность).
Отличались от равнинных аналогов и копейщицы. Собственно, из-за высоких требований к застрельщицам большая часть армии варварских королевств состояла из копейщиц, которые должны были вступать в бой в плотном фалангиальном построении. Впрочем, Вечносвободный лес не располагал к бою в плотном строю, а потому копейщицам часто приходилось прибегать к тактике застрельщиц: закидать противника дротиками и дать деру за ряды своих союзниц. В связи с чем (а так же с тем, что дальний бой у всех сторон лесных конфликтов изрядно проседал при сравнении с равнинными стандартами) вооружение лесных копейщиц было крайне легким: серьезных доспехов единорожки лесных королевств не носили — щитов и масок им защиты вполне хватало для собственной. Но, тем не менее, снаряжение лесных копейщиц заслуживает отдельного рассмотрения.
Номинально главным оружием копейщиц было копье, подобное таковому фалангиток равнин. Но все лесные копейщицы в обязательном порядке носили с собой набор “волчьих дротиков” и, часто, какое-то количество метательных ножей (метнуть нож можно гораздо быстрее, чем дротик, а с обзорностью в лесах торгового пути дела обстояли довольно плохо – внезапные столкновения враждующих отрядов буквально нос-к-носу редкостью не являлись), крепления для которых специально приделывали с внутренней стороны щита. Доспехов, за исключением шлема-маски, лесовушки не носили. Шлем-маска изготовлялся, как и на равнинах, из металла или из многослойной прессованной кожи и снабжался наглазниками. Но отличался от равнинного аналога одной очень интересной особенностью: вырезы для ушей снабжались своеобразными покатыми выступами-крыльями и прищепками. Большую часть времени лесовушки использовали маски так же, как и равнинницы, но в бою единорожки заправляли свои ушки под крылья маски, которая удерживала их при помощи прищепок. Таким образом маска защищала ушки воительниц от скользящих ударов популярного на торговом пути полулунного меча, который в ином случае попросту срезал бы их. Основной защитой копейщиц был большой сердцевидный щит. Это были крупные щиты круглой формы несколько загибавшиеся внутрь (наподобие римских скутумов), достигавшие 60-70 сантиметров в диаметре и имевшие по верхнему краю широкий вырез глубиной до 15-17 сантиметров, набивавшиеся или склеивались из 2-3-х слоев относительно тонких деревянных планок дополнительно прокладывавшихся плетенкой или грубой тканью, а по краям щит для удобства проклеивался грубой тканью или обивался плетенкой. Щиты эти были гораздо легче своих равнинных аналогов (от 4 до 6 килограммов) и не могли похвастаться такой же высокой прочностью, но обеспечивали воительницам достаточный уровень защиты благодаря некоторым особенностям боя на пути “из земнопони в единороги”: излюбленное оружие земнопони (топор, клевец и чекан), конечно, обладали просто чудовищной проникающей способностью, но их рабочая часть была ограниченна по длине, а потому легкая изогнутость щита создавала достаточную воздушную подушку для того, что бы пробивший щит клин земнопонячьего оружия не достал до единорожки. Что касается монолитного копейного удара фаланги или массированного обстрела метательным оружием, для противостояния которым создавался тяжелый щит равнинниц, то ландшафт Вечносвободного леса не располагал к таковым внушительным атакам. Если сказать пару слов о вырезе на вершине щита, то он был призван улучшить обзор копейщице и упростить для нее метание дротиков и ножей. Причем, что характерно, вырез не снижал защитные свойства щита: земнопони, в силу своей биомеханики, могли наносить удары лишь в плоскостях близких к горизонтали и сверху ударить не могли физически, а неудачно пропущенные удары единорожьих копий, протазанов (о них ниже) и полулунных мечей неплохо держал шлем-маска. Впрочем, будучи на лодьях, копейщицы часто меняли сердцевидные щиты на более удобные малые круглые.
Вооружение и снаряжение “граничниц” было аналогично таковому остальных королевских ополченок. За одним исключением, которое не позволяло перепутать их друг с другом.
“Граничницы” были воительницами полупрофессиональными, немалую часть жизни которых занимала военная служба. Это не только делало их гораздо более эффективными бойцами, но и привело к созданию ими совершенно нового вида оружия — протазана. Это оружие был потомком рогатины, использовавшейся единорожками для защиты от лесного зверья (рогатина — копье с толстым древком, наконечник которого имеет небольшую перекладину сразу за боевой частью). Протазан представлял из себя вытянутый вперед плоский наконечник с заточенными краями и выступами-“крыльями” или перекладиной сразу за боевой частью, насаженный на копейное древко и имевший общую длину сравнимую с боевым копьем или, даже, чуть больше (то есть, около 100-110 сантиметров). Протазан, обладая балансом не хуже копья, мог использоваться для рубящих ударов и парирования выпадов противника (для чего применялись “крылья”), а также, в разумных пределах, мог заменять рогатину: в Вечносвободном лесу местное зверье представляло не меньшую опасность, чем противник — от него воительницам тоже как-то надо было защищаться. Оружие это стоило несколько дороже копья (а что его дешевле?) и требовало более длительного обучения, но давало солидное преимущество над копьем в маневре (копье, вообще, оружие маломаневренное), почему и было любимо среди “граничниц”, практически поголовно вооружавшихся протазанами. Так что, в копытопашной, если не был сформирован плотный строй, даже застрельщицы “граничниц” могли представлять из себя весьма серьезную угрозу.
Помимо протазана “граничницы” разрабатывали и боевую магию. Но, по сравнению с искусством боевых магесс равнинниц, их потуги выглядели жалко — лесовушкам, попросту, еще не хватило времени для достижения серьезных успехов в боевом чародействе. Так же, в их защиту стоит сказать, что чистокровые единорожки лесных королевств в это время боевым колдовством вообще не занимались — все их чародейские интересы были строго ремесленными.
Небольшое отступление: Легенда о Никс
https://ficbook.net/readfic/12819458/34354081#fanfic-author-actions
Государства “табунных топоров”
https://i.imgur.com/sdoCv.jpeg
Первоначально располагавшиеся в основном на единорожьей части торгового пути “из земнопони в единороги”, государства “табунных топоров” в этот временной период начали активную экспансию на земнопонячий его отрезок, не забывая и о грабительских походах против рогатых лесовушек и равнинниц. Что было еще и подкреплено изменениями в плане демографии: численность земнопони и единорогов, как кобылок, так и жеребцов, в этих государствах практически сравнялась, что повлияло на мировосприятие их жителями — деление на земнопони и единорогов теперь стало сугубо прагматическим, лишившись всяких предрассудков. То есть, варвары прекрасно понимали, что они различаются между собой и использовали эти различия в повседневной жизни, но каких-то представлений о том, что одни из них из-за наличия/отсутствия рога лучше других, не было — для “табунных топоров” все четвероногие разумные шли по графе “пони”. Что было крайне прогрессивным шагом, делавшим общество “табунных топоров” очень привлекательным для всех гнобимых понях с обеих сторон, как с земнопонячьей, так и с единорожьей: миграция с равнин и из единорожьих королевств была важным фактором, обеспечившим быстрый рост и усиление государств торгового пути. Правда, стоит сказать, что традиционное разделение на своих и чужих в табунной части варварского социума было более, чем сильно — пришлым следовало либо подаваться в нетабунные пони (к “вольным” и “беззаконным хвостам”), либо смириться с тем, что полноценными членами варварского общества смогут стать лишь их дети/внуки/правнуки (как повезет). При этом, последнему способствовало происходящее углубление различий между законнорожденными и незаконнорожденными членами общества. Последнее, помимо очевидных расслоения социума и способствования становления классов, привело к пересмотру структуры армии “табунных топоров”. Что нас и интересует.
Во-первых, произошло разделение дружины на “признанную дружину”, состоящую из “табунных топоров” и их “верных спутниц” (о них ниже), и “вольную дружину”, состоящую из “вольных хвостов” (то есть, бывшую той самой классической земнопонячьей дружиной). При этом, ватаги “беззаконных хвостов” данными изменениями затронуты не были, так как кроме платы и доли в добыче наемники других обязательств от нанимателя не требовали — они были слишком удобны, чтобы что-то менять.
Во-вторых, в пределах “признанных дружин” появилось такое явление как “верные спутницы”. “Верные спутницы” были избранницами “табунных топоров”, поклявшимися приносить потомство только от них и рискнувшие последовать за своими кавалерами в их авантюры. Проще говоря, “верная спутница” это варварская “особенная пони”, которой хватало бесшабашности на то, чтобы с оружием в зубах следовать за своим избранником во все подхвостья, куда он, без сомнения, залезет. Что, с одной стороны, лесными жеребцами крайне ценилось (еще бы: понька ради тебя своим хвостом рисковать готова! значит, не безразличен), а, с другой, осуждалось — если кобылка со своим кавалером по “приключениям” шарахается, то когда она жеребят рожать и воспитывать будет? Что обуславливало как относительно небольшую численность “верных спутниц в “признанных дружинах”, так и то, что они в них выполняли, преимущественно, функции застрельщиц и лагерной обслуги – лесные поня не хотели лишний раз рисковать хвостами своих дам (но оставить дома удавалось далеко не всех шабутных понек: среди пони, как тогда, так и сейчас, всегда имеется определенный процент крайне беспокойной сестрии, которую хлебом не корми – дай во что-нибудь влипнуть.
De-facto, “верные спутницы” в составе “признанной дружины” входили в “огородную дружину”. То есть, были застрельщицами. Вот только застрельщицы лесных варваров к этому времени значительно изменились, и теперь не слишком напоминали прежних легконогих метательниц чего-нибудь. Теперь это была средняя понилерия: “огородницы” были облачены в легкие доспехи и, помимо метательного арсенала, несли с собой полноценное оружие ближнего боя – при необходимости, “огородная дружина” могла вступить в копытопашную и представлять в ней нешуточную угрозу.
Основной формой войны для государств “табунных топоров” был грабительский набег, каковой велся по рекам. В связи с этим основным подразделением их армий была “лодка” — группа воинов, плывших совместно в одной лодье и имевших своего вожака. В свою очередь “лодки” разделялись на “надежные лодки” и “худые лодки”. Первые из них комплектовались “признанной дружиной” и “вольною дружиной”. Вторые же были представлены наемниками и союзниками. “Лодки”, как правило, действовали самостоятельно или небольшими группками до трех-четырех кораблей. Координировать большие подразделения, попросту, не позволяли ни технические средства, ни степень организации варваров тех времен. Тем не менее, кампания крупными силами иногда могли проводиться. Для этого варвары оговаривали между собой точку сбора, куда прибывали привычными небольшими подразделениями. Собравшись же и вновь утряся вопросы взаимоподчинения, они уже были способны действовать как относительно сплоченная крупная армия. Но только посуху и только в том случае, если от них не требовалось совершать длительные переходы. В общем, крупными силами лесные варвары в то время оперировали редко.
В наземном бою армии “табунных топоров” строились неплотными группками, имеющими значительные промежутки между собой. Что делалось ради расширения возможностей маневра. Дальнейшая же манера действий зависела от противника. Если варварам противостояли сопоставимые силы, то бой велся в согласии со старыми, проверенными временем, земнопонячьими тактиками. Если же противниками были многочисленные, но плохо подготовленные единорожки варварских королевств или равнинных государств, то применялась особая тактика: “огородная дружина” и часть наиболее надежных и опытных копытопашных бойцов, специально выделенных для этого, связывали основные силы противника боем и маневром, а другая, большая, но не лучшая, часть копытопашных сил варваров массированной атакой с нескольких сторон разбивала “оставленные без внимания” войска противника. Потом эта схема повторялась снова. И снова. Пока таким образом все войско противника не оказывалось разгромленно по частям. В бою, вне зависимости от противника, дружинные вожди также не брезговали засадами и глубокими обходами, могущими дать в нужный момент колоссальный моральный перевес над противником и спровоцировать его на бегство.
Изменения в снаряжении и вооружении варваров пути “из земнопони в единороги”
https://i.imgur.com/7N8Ul.jpeg
Совершенствование военной организации как на торговом пути, так и на равнинах потребовала от воинов варваров пересмотреть свое защитное снаряжение: прежних матерчатых доспехов теперь было недостаточно для защиты от ставших более организованными застрельщиц и их аналогов.
Новые легкие доспехи представляли из себя плотно подогнанную к бойцу основу из многослойной (часто дополнительно прошитой) ткани или кожи, закрывающую грудь, бока и круп, на которую крепились фигурные матерчатые полотна, свободно свисающие на бока, плечи с предплечьями и голени, а также нагрудник и нашейник, которые могли быть совершенно разнообразным: от фигурных пластин из дерева до металлического ламинара - смотря, что мог себе позволить боец и что умели изготовить местные бронники или привезти купцы. Полотна, не будучи плотно зафиксированы, деформировались при контакте с летящим дротиком, сбивая его с первоначальной траектории, а тканевая основа доспеха еще более изменяла его траекторию и принимала на себя часть удара, делая удар скользящим и неопасным. Также тканевая основа, на которую крепились полотна, часто усиливалась в наиболее уязвимых местах (бока, круп и, редко, живот и пах) дополнительными элементами: нашиванием кожаных вставок, мелкой чешуи, кольчужного полотна или мелкопластинчатого ламинара (последним жеребцы и кобылы иногда защищали свой пах и живот). Обязательным элементом доспеха были шлем-маска с наглазниками и приспособлениями для защиты ушей, а также пришедшие с единорожьих равнин поножи на передние ноги. Само собой, такой доспех мог защитить только от обстрела метательным оружием или магией, в ближнем же бою бойцы полагались на свои воинские навыки, а единороги еще и на малый круглый щит. Впрочем, был у такого доспеха один нюанс, делавший его не столь уж простым: при должном мастерстве пони-боец мог использовать в копытопашном бою свободно свисающие полотна своего доспехи для нанесения ударов по оппоненту, ослепляя, дезориентируя и запутывая его.
Изменению подвергся и тяжелый чешуйчатый доспех — его покрой стал напоминать таковой нового легкого доспеха. При этом основа и свободно свисающие полотна выполнялись из недешевой кожи, на которую нашивались металлические элементы. Последние тоже претерпели изменения: стало обычным применение в одном доспехе чешуек разного калибра и комбинация чешуи с элементами доспеха другого тупа. Хотя, стоит заметить, что более дешевая (и тяжелая) деревянная чешуя никуда не исчезла, а ее покрой остался прежним. В целях удешивления производства. Впрочем, и тут были свои изменения, которые позволяют называть этот доспех чешуей лишь условно: нашейник и нагрудник практически всегда выполнялся из прочного и недорогого деревянного ламинара либо нашейник был ламинарного типа, а нагрудник вырезался из дерева как единая деталь (более тяжелая и не подлежащая ремонту в случае повреждения, но куда более прочная и дешевая).
Кузнечное ремесло тоже не стояло на месте — у чешуи появился серьезный потомок-конкурент. Им стал ламеллярный доспех или ламелляр. Ламелляр отличался от чешуи тем, что металлические пластинки не нашивались на гибкую основу, а связывались между собой шнуром, формируя единое металлическое полотно. Это обеспечивало доспеху куда большую жесткость и прочность (единорожье оружие оказывалось почти бессильным — приходилось прибегать к услугам земнопони или, сжав зубы, продолжать грызть кактус, стараясь одолеть противника числом), но существенно ограничивало подвижность по сравнению с чешуей. Конечно, пони-кузнецы пытались решить эту проблему уменьшением размера пластин ламелляра, но тогда падали жесткость и прочность — приходилось идти по пути комбинации с элементами доспеха другого типа.
Помимо же ламелляра появились еще два новых способа построения доспеха, которые использовались в различных элементах легкого тканевого, а так же тяжелых чешуйчатого и ламеллярного доспехов.
Ламинарный доспех или ламинар — доспех из крупных поперечных полос, скреплявшихся одним из двух способов: 1) нашиванием на гибкую основу (“равнинный ламинар”) или 2) связыванием между собой шнуром наподобие лемелляра (“лесной ламинар”). Первый способ был изобретен на равнинах единорогов, где относительно часто использовался в изготовлении нашейников для аукзил и наплечников для фалангиток, после чего мигрировал на путь “из земнопони в единороги”. Второй же был придуман непосредственно на самом торговом пути, родившись как способ удешевления ламелляра. В целом, основными достоинствами ламинара были относительная дешевизна, а также прочность и жесткость, сравнимые с крупнопластинчатым ламелляром. Но и недостатки были существенны: ламинар сильно сковывал движения и мог иногда свободно пропускать колющие удары, направленные под углом (острие, попросту, проходило между пластинами). Собственно, с этим и связано то, что лесные пони и не помышляли изготовлять полностью ламинарные доспехи, используя это принцип лишь для таких элементов как нашейники, нагрудники и наплечники (накрупники из них тоже не делали — слишком длинные пластину будут чрезмерно хорошо расходиться перед наконечником копья или дротика).
Кольчатый доспех — доспех, сплетенный из металлических колец. Собственно, это хорошо нам известная кольчуга. Появилась она на единорожьем отрезке пути “из земнопони в единороги”, как попытка единорожек ответить на появление все большего числа мечников-единорогов в бандах разнообразных авантюристов. Попытка эта, правда, провалилась — слишком дорога и требовательна к подготовке воительницы кольчуга, да и от ударов земнопонячьего вооружения практически не защищает (копья, надо заметить, держит тоже не очень). Но у кольчатого доспеха оказались и положительные стороны: высокая гибкость (выше, чем у чешуи), неплохая способность противостоять ударам по касательной, относительно небольшой вес и легкость в починке. К тому же, что немаловажно, достаточно дешево изготовлять или чинить кольчугу земнопони не могли, что давало рогатым лесовушкам неплохую такую статью торгового дохода. В итоге, кольчатый доспех использовался в тех элементах доспеха, где требовалась максимальная свобода движения, а естественные изгибы тела делали практически любой удар идущим по касательной: кольчуга конкурировала с мелкой чешуей за наплечники и накрупники, а также была частым материалом для нагубников масок земнопони (гораздо более удобным, чем сплошная выступающая вперед пластинка). Кольчуга чаще всего применялась выходцами с единорожьей части торгового пути, где она плелась способом “1 в 4” (в 1 кольцо продевалось 4 соседних) из заваренных и незаваренных элементов (первоначально незаваренные кольца просто заклялись, но позже их стали заклепывать, что повысило прочность и цену кольчатых элементов доспеха). Но, в связи с активной торговлей, кольчужные элементы доспеха не были редкостью и на земнопонячьем участке пути. Более того, судя по археологическим находкам и дошедшим до наших времен образцам изобразительного искусства того времени, кольчугой лесного производства активно торговали почти по всем равнинам земнопони.
Стоит отметить и некоторые особенности вооружения варваров на пути “из земнопони в единороги”.
Во-первых, численное соотношение земнопони и единорогов среди них выровнялось, а потому единорожий арсенал теперь был для лесных кузнецов и торговцев не менее важен, чем земнопонячий.
Во-вторых, следует отметить широчайшее разнообразие вооружения на пути “из земнопони в единороги”. Фактически, сюда стекались оружейные идеи со всего понячьего мира: на торговом пути можно было увидеть единорога-дружинника даже с такой экзотикой как грифонье копье или зебрианские метательные снаряды. Что уж говорить об обыденных для дружинников протазанах и “рогатых мечах”.
В-третьих, полулунный меч и меч-коса вышли из употребления земнопони, став ассоциироваться с единорогами. Дело в том, что сила земнопони не была востребована этим оружием в полной мере, тогда как телекинез единорогов просто преображал клинковое оружие. Так что, земнопони предпочли сосредоточится на той части своего арсенала, где они априори были вне конкуренции, оставив мечи на откуп своим рогатым родичам. Что, пожалуй, пошло мечам только на пользу: больше не требовалось снабжать оружие разнообразными костылями, делавшими бы его хоть как-то приемлемым для земнопони, а потому оружейники направили высвободившиеся силы на совершенствовании бесспорно сильных сторон клинкового оружия, делавших его притягательным для единорогов.
В-четвертых, среди рогатых профессиональных бойцов торгового пути стала практиковаться боевая магия, каковая мигрировала к ним с равнин вместе с беглыми “запретными жеребцами” и плененными магессами. Правда следует отметить, что она отличалась от таковой волшебниц равнин: дружинники предпочитали утилитарную сторону магии, изучая полезные в повседневной жизни или на поле боя заклинания, совершенно не заморачиваясь теорией или исследованиями. Проще говоря, лесные варвары разучивали уже кем-то созданные чародейства, сами почти ничего нового не составляя (так как, зачастую даже не понимали как та магия работает). С этим же было связано и то, что уровень развития магии вообще и боевой магии в частности среди варваров торгового пути был крайне низок по сравнению с равнинами единорогов. Впрочем, кое-где лесовики, все-таки, вели самостоятельные изыскания. Но и “братства колдунов” безнадежно в чародейских искусствах отставали от семей равнинных чародеек. Что обуславливалось как обрывочностью полученных с равнин знаний и несовершенством передачи их внутри “братств” (все-таки, военно-торговый кооператив, которым было подавляющее большинство нетабунных организаций варваров, это далеко не семья чародеек, сплоченная кровными узами и привязанностями), так и значительным отставание по времени начала самостоятельных изысканий.
Конунгаты единорожек и земнопони
https://i.imgur.com/G0LY1.jpeg
Конунгаты единорожек и земнопони располагались между государствами “табунных топоров” и единорожек-расисток, формируя этакий буфер (дырявый аки решето) между этими двумя полюсами обитателей торгового пути “из земнопони в единороги”, часто непосредственно гранича и с теми и с другими. Что заставляло конунгаты активнейшим образом формировать между собой различные союзы, дабы сохранить себя: как правило, обитающие поблизости “табунные топоры” были вовсе не против купить/обмануть/завоевать или иным образом присоединить к своим владениям близких к ним по культуре коннунгаток, а затем окончательно и бесповоротно ассимилировать, тогда как единорожки будущих лесных королевств в то же самое время точили зуб на военное завоевание коннунгатов и превращение их понинаселения в “граничниц”. С чем, по всей видимости, и были связаны характерные для коннунгаток подчеркнутые самостоятельность, сплоченность и гипертрофированное даже по лесным меркам землячество.
Для коннунгатов было обычным достаточно бесконфликтное сосуществование различных понячьих семей и целых родов внутри одного союза, а также изредка случавшееся добровольное слияние родов через названное родство. Кстати, последнее было основным путем укрупнения коннунгатов, когда два рода, находившихся до этого в союзе, называли друг друга сестрами. Все-таки, коннунгатки, как и их соседи, оставались варварками со всеми присущими варварскому мироощущению особенностями.
Что касается взаимоотношений различных понитипов, то в этом коннунгатки были очень сходны с “табунными топорами”. Допустив до себя дружинников-земнопони, единорожки принялись приносить в том числе и безрогое потомство, что поначалу порождало конфликты между рогатыми и безрогими табунницами. Но когда число безрогих стало более-менее заметным, рогатые поняшки нашли для куда более мощных, сильных и выносливых безрогих родственниц множество значимых для рода работ, с которыми сами справлялись плохо. В итоге, произошло точно такое же, как и у “табунных топоров”, разделение обязанностей по принципу “кто что умеет лучше, тот то и делает”. В коннунгатах, образовавшихся на основе табунов земнопони эти процессы происходили точно тем же путем. Только если среди единорожек земнопоньки брали на себя функции по работам в лесу (лесорубки, собирательницы смолы, бортницы, охотницы и тд.), то среди земнопони единорожки становились мастеровыми, так как телекинез позволял им значительно экономить время на работах, требующих тонкого манипулирования.
Как и остальные пони торгового пути, поняшки конунгатов были довольно сильно вовлечены в различные военные действия. Но если на протокоролевства единорожек-расисток хоть с трудом, но можно натянуть одежды белых и пушистых, то вот пони конунгатов очень быстро из жертв превратились в агрессоров. Противостоя экспансии земнопони, коннунгаты одновременно присоединялись к ней на правах союзников и, даже, переодически становились во главе процесса распространения безрогого мира по Эквестрии. Что было обусловленно тем, что отказавшись от чистоты крови и согласившись принять часть земнопонячьих обычаев, лесные единорожки коннунгатов оказались, по сути, частью мира земнопони. Причем, его фронтиром, куда стекались самые беспокойные и авантюрные безрогие лошадки. Так что, да, все, что было сказано про экспансию “табунных топоров”, точно так же справедливо и для коннунгатов: их пони точно так же основывали новые поселения, разносили земнопонячью культуру где только могли, скупали и захватывали единорожьи поселения, тем присоединяя новых рогатых к безрогому миру, а также организовывали торговые и грабительские походы на равнины единорогов. Кстати, насчет последнего: в пику устоявшемуся в современной массовой культуре мнению, отнюдь не только лодьи коннунгаток и “табунных топоров” грабили равнинных единорожек – чистокровых лесных родственниц-налетчиц равнинным магессам тоже приходилось гонять частенько.
Что касается военного дела, то теснейшие контакты воительниц конунгатов с “табунными топорами” делали их армии схожими в некоторых аспектах. Основной тактической единицей для конунгов была “лодка” — группа бойцов, плывших совместно в одной лодье и имевших своего командира. Костяком же армии коннунгатов были отряды профессиональных воинов.
Но и отличий хватало. Ибо, социальная структура конунгатов немало отличалась от таковой государств “табунных топоров”.
Во-первых, армии конунгатов состояли из двух частей: ополчения и дружины. В связи с чем, тактические единицы были четырех, а не двух (как у “табунных топоров”) видов: 1) “дружинная лодка”, комплектовавшаяся из дружинников, 2) “сборная лодка”, набиравшаяся из ополченок (по факту, “сборных лодок” было два типа: отряды единорожек-копейщиц и отряды земнопонек с традиционным для них вооружением, но отдельных названий для них не было, командиры, просто, знали то, какая “лодка” из кого состоит и как ее использовать), 3) “лесная лодка”, представленная застрельщицами и бывшая более не боевой единицей, а средством разведки и пограничного дозора (кстати, в связи с небольшой численностью подходящих кандидаток и обычными способами ведения боя застрельщицами, “лесные лодки” были смешанными отрядами из земнопонек и единорожек, а их численность была значитально меньше других “лодок”, а вместо лодьи им доставались более мелкие, но малозаметные и куда менее громоздкие суда), и 4) “союзная лодка”, представленная союзниками и наемниками.
Во-вторых, дружина частично набиралась из “вольных хвостов”, частично из “детей конунга” — пони обоих полов, которые были призваны из табунов в дружину своими матерями-дружинницами, а потому имели кровное право претендовать на управленческие должности в войске. Явного, как у “табунных топоров”, разделения дружинников по крови не было: единственным чувствительным различием между пришлым и законнорожденным воином было то, что право выбирать и избираться на должность командира было только у законнорожденных. Еще одним отличием от армий “табунных топоров” было то, что весомая часть дружины была представлена кобылами. Так как, как ни крутись, а природу не обманешь: большая часть “детей коннунга”, как и у всех прочих пони, рождались кобылицами.
Что касается ополчения, то оно применялось конунгами очень неохотно: при обороне собственных владений либо в захватнической войне, когда главы конунгата рассчитывали на ее молниеносное завершение. Что было связано как с хозяйственными нуждами коннунгатов, так и с тем, что собрать ополчение быстро и втайне было совершенно невозможно. При этом, набор ополчения, в основном, не имел каких-то особенностей: каждый табун рода выставлял определенное количество “лодок”, в зависимости от своей численности и достатка, а главами собранных “сборных лодок” назначались помощники вождя табунной дружины (что обеспечивало сносное управление ополченками). Несмотря на отсутствие значительных особенностей в сборе основной массы ополчения, этот процесс в конунгатах, все-таки, имел некоторые особенности: существовали такие подразделения ополченок, как “остатки” и “лесные лодки”, комплектование которых осуществлялось несколько другими путями. “Остатки” — подразделения, комплектовавшиеся из ополченок разных табунов, когда в воинстве имелось достаточное число лодей и ополченок нужного понитипа, но укомплектовать полноценное подразделение только из сотабунниц не получалось. Главой над таким подразделением конунг лично назначал/ла одного из своих помощников, что позволяло на корню погасить возмущения ополченок о том, что какому-то из табунов отдается предпочтения перед другими. Что касается “лесных лодей”, то они всегда комплектовались из понек разных табунов, так как кобылок с подходящими способностями и опытом было не так уж и много. И еще: “лесные лодьи”, в отличие от остального ополчения, требовались лесовушкам постоянно, что заставляло поддерживать их функционирование не только в период войны. Это осуществлялось через периодический призыв подходящих понек в войско. За что им полагались различные поблажки внутри их табунов, а самим табунам – компенсация из общей казны рода. Своих глав отряды застрельщиц выбирали самостоятельно.
Что касается тактики применения войск, то воинское искусство конунгатов было чем-то средним между таковым единорожек лесных королевств и государств “табунных топоров”. Когда в их войске не было ополчения, конунги действовали один-в-один как “табунные топоры”. Когда же ополчение имелось, то копейщицы использовались как щит, прикрывавший маневры дружинников и обеспечивающий войску безопасный тыл, а ополченки-земнопоньки обстреливали противника и пытались зайти ему в тыл или фланг, чем лесные воительницы напоминали равнинных фалангиток и застрельщиц, соответственно.
Небольшое отступление: Легенда о дискордовой заботе
https://ficbook.net/readfic/12819458/34354102#fanfic-author-actions
Бой на реках
https://i.imgur.com/1SJ6b.jpeg
Полевое сражение, если таковым можно назвать возню пары десятков пони промеж древесных стволов, было немаловажной составляющей войн понек торгового пути и, обычно, проводилась в “малых формах” небольших стычек. Но не ему принадлежала основная роль в военном деле лесных пони. Основными формами ведения военных действий стали бой на воде и грабительский налет на незащищенные поселения. Понятно, что второе было неразрывно связанно с первым, так как основными путями сообщений на торговом пути были реки.
Бой на реках был неразрывно связан с грабительскими набегами на соседей и на равнинных понек, как единорожек, так и, в меньшей мере, жительниц равнин земнопони. Конечно, речное пиратство по-прежнему процветало на торговом пути. Но! оно, скажем так, было уже слишком мелко для родовых государств, которые, к тому же, очень быстро сориентировались пополнять свою казну поборами с торговцев. А это требовало безопасности торговых путей во владениях рода: отныне пиратам-авантюристам со своими лодченками лучше было держаться подальше от охраняемых воителями рода рек.
Основным боевым судном этого времени на пути “из земнопони в единороги” по-прежнему оставалась плоскодонная лодья — лодка достаточна крупная, надежная и выносливая для перевозки войск и грузов на большие расстояния в местах с, скажем так, не слишком насыщенной судоремонтной инфраструктурой. Лодьями пользовались все, кто мог себе их позволить: торговцы, воинства родовых государств, богатые шайки авантюристов, подразделения равнинниц. Деление лодей на боевые и торговые в это время было довольно условно, так как боевое судно отличалось от торгового только небольшим числом легковозводимых усовершенствований, а сами “торговцы” могли использоваться для полноценного боя и без переделок.
Стоит отметить, что боевые лодьи конунгатов и государств “табунных топоров” имели некоторые отличия от боевых лодей варварских королевств и единорожек-равнинниц:
1) Достаточно большое число как земнопони, так и единорогов в командах первых позволяло им одинаково успешно пользоваться как парусами, так и веслами, тогда как единорожкам больше приходилось полагаться на прямоугольный парус, расположенный на единственной невысокой мачте, а к веслам прибегать только в бою или при наличии на борту наемных гребцов-земнопони (которым не факт, что стоило доверять). Потому обычно число уключин для весел на судах единорожек было невелико (значительно меньше, чем число весел пускавшихся при необходимости в ход), но на носу их судов имелся бушприт, поднимая на котором парус единорожки значительно улучшали маневренность своего судна.
2) На лодках, предназначенных для боя, единорожки всегда наращивали борта в высоту или набивали по их краям колья, что должно было мешать бойцам противника перепрыгивать на палубу их судна или устанавливать абордажные мостики. Для этих же целей нередко натягивали канаты или крупноячеистые сети от бортов лодьи к вершине ее мачты (правда, за них было очень удобно цеплять абордажные крюки).
3) Боевые лодьи единорожек могли иметь на носу специально оборудованную площадку для баллисты, каковое новшество было занесено на торговый путь с равнин. Впрочем, привнесенные равнинницами баллисты были усовершенствованы лесовушками под свои нужды: они “научили” новинку метать небольшие дротики целыми пачками. Точность и эффективная дальность огня резко упали, но зато теперь можно было буквально засыпать палубу вражеского корабля градом снарядов.
4) На боевых лодьях дружинников всегда имелся набор абордажных крючьев и багров для зацепления и подтягивания вражеского судна, абордажные топоры для разрушения бортовых укреплений и, иногда, абордажные мостики, каковыми соединяли корабля для удобства штурма.
В целом, речной бой был предельно прост. Лодки тех, кто не был уверен в своих силах, предпочитали держаться от противника подальше, засыпая его разнообразными метательными снарядами до тех пор, пока он не ослабнет настолько, что не сможет сопротивляться и его можно будет разгромить последней абордажной атакой. Те же, кто был уверен в своих бойцах, предпочитали сводить все к скоротечной схватке на палубе лодьи противника, максимально быстро сближаясь со своей жертвой и заякоревая ее абордажными средствами.
Грабительские набеги
https://i.imgur.com/zu6G0ZC.png
Грабительские набеги были основной формой военных конфликтов обитателей пути “из земнопони в единороги” того времени. Набеги совершались как на поселения внутри торгового пути, так и на владения равнинниц. Целью налетов становились заведомо неспособные к сопротивлению селения, после разграбления которых налетчики стремительно ретировались, не дожидаясь подхода к пострадавшим подкрепления. Впрочем, иногда налеты совершались и на относительно крупные поселения и, даже, на поселки единорожек-магесс. Последние считались особо лакомыми кусками, так как пополняли ряды налетчиков тренированными в магии “запретными жеребцами”, а добычей становились поньки-волшебницы (и сами ценившиеся как очень полезные “отработчицы”, и имеющие немалые знания в очень интересной лесовикам области практической магии). Часто грабительские набеги совершались в рамках ведущихся между равнинницами войн, когда налетчики пользовались заварушкой между равнинницами и грабили одну из сторон конфликта под прикрытием другой (этакие континентальные корсары).
Что касается набегов на укрепленные поселения, то осадное искусство на торговом пути в это время не менялось. Что было обусловлено как тем, что на самом пути “из земнопони в единороги” фортификации оставались прежними, рассчитанными на противостояние лесному зверью, которое с пони каждый день, так и тем, что набегающая сторона была крайне стеснена во времени и серьезную штурмовые мероприятия позволить себе не могла – если налетчики долго проволандаются, подготавливаясь к штурму, то к осажденным придут подкрепления и размажут грабителей по стенам осаждаемого ими же поселения. Соответственно, хоть сколько-либо серьезно укрепленные поселения лесовики обычно не трогали. Если только не удавалось провернуть какую-либо хитрость и взять поселение молниеносно, пока оно даже не сообразило, что подверглось нападению.
В результате налета захватывалась определенная добыча (вещественная и живая), после чего налетчики ретировались. Добравшись до более-менее спокойных мест, они начинали дележку. Все награбленное складывалось в общий котел (укрывать что-то считалось недостойным и могло выйти боком для нечестного воина, а слухи в нетабунном мире расходились довольно широко) и делилось главой воинства на две части: одна часть доставалась роду и его союзникам, между которыми потом и делилась их главами, а вторая же причиталась непосредственным участникам похода и делилась одним из двух способов: “поровну” или “по справедливости”. При дележке “поровну” вся добыча попросту разделялась на равные части между участниками похода. Так происходило в тех случаях, когда командиры не чувствовали прочной власти над своим воинством. При дележке “по справедливости” награбленное распределялось между воинами согласно их заслугам. При этом, тех, кто пытался укрывал часть добычи или “сачковал” во время похода , могли, вообще лишить их доли. Что мотивировало лесных бойцов на полную самоотдачу во время грабительских походов. Правда, и требовала от их вождя соответсвующего авторитета, дабы его решения не оспаривались.
Теперь пара слов о той самой добыче. Налетчики с пути “из земнопони в единороги” не только грабили равнинных единорожек или участвовали в их войнах на правах союзников, но и были важной составляющей рогатой экономики. Дело в том, что грабителей интересовала не только неживая добыча - не менее интересны им были и пленницы. Но поглотить всю ту прорву плененных единорожек, что захватывали варвары, экономика торгового пути просто не могла: “отработчиц” там требовалось немного, а земнопоням равнин рогатая дохлятина и даром была не нужна. Тем более, что равнинные безрогие до сих пор практиковали классическую “отработку ущерба”, которая налагала на покупательниц попросту невыполнимые по отношению к рогатым пленницам обязательства: по отработке срока они обязаны были отпускать понек восвояси. Другое дело равнины единорожек, чей уже достаточно оформившийся рабовладельческий строй постоянно испытывал голод по рабочей силе. Так что, неудивительно, что налетчики быстро сориентировались, и влились в нестройные ряды торговцев живым товаром.
Лодки лесовиков часто швартовались у пристаней крупных единорожьих поселений, где и выставляли свой товар на продажу. Даже утвердился общепринятый условный знак, показывающий, что лодья везет рабынь для торга: на нос лодки вешалась крупное деревянное украшение в виде головы единорожки или на мачту натягивалось полотнище с аналогичным рисунком. Впрочем, равнинные торговки также быстро разобрались в ситуации, и начали основывать на островках и по берегам рек торговые посты, где скупали невольниц у налетчиков, а также торговали с ними другими товарами, популярными среди лесных жителей. Со временем к таким торговым постам начинали стекаться и другие единорожки, предлагавшие гостям из Вечносвободного леса различные услуги: открывались трактиры и постоялые дворы, начинали работать ремесленные мастерские, втихую практиковали маги-самоучки. Сюда же стягивалась различные возмутители единорожьего спокойствия, желающие примкнуть к вольной братии лесных пони – так происходило пополнение лесной нетабунной братии с единорожьей стороны.
Итак, подведем итоги.
Во-первых, социальные изменения в обществе пони торгового пути, слияние их воинских традиций и интенсификация контактов с равнинными единорожками привели к появлению в этих местах двух разных воинских культур: воинской культуры “табунных топоров” и воинской культуры варварских королевств, а также их синтетической формы в виде воинской культуры конунгатов.
Во-вторых, произошло разделение войск этих трех воинских культур на типы по их роли на поле боя, как это ранее произошло у равнинных единорожек. Довольно существенному развитию подверглась тактика применения войск на поле боя.
В-третьих, на пути “из земнопони в единороги”, превратившемся в своеобразный аккумулятор оружейных идей, произошла очередная революция в деле бронников, а также дальнейшему развитию подверглось вооружение пони. Также в это время окончательно завершился переход клинкового оружия из арсенала земнопони в арсенал единорогов.
В-четвертых, единороги торгового пути познакомились с боевой магией и начали первые, робкие самостоятельные изыскания в этой области.
В-пятых, значительно возросла роль речного боя.
В-шестых, налеты лесовиков на равнины единорогов стали заметны и принялись всерьез влиять на жизнь равнинных пони.

